
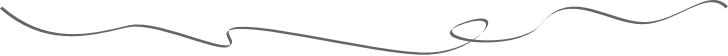
Быть или казаться? Сон в музее Волошина
Смерть Федора Львовича явилась для меня тяжелым ударом. Много дней никак не мог прийти в себя, вспоминая наставника. Встречи с ним отпечатались в памяти и теперь переживались вновь. Особенно ярко всплывало посещение музея Волошина за несколько лет до трагической развязки.
В Коктебель шли пешком из Орджо по безлесным холмам Восточной Киммерии. После долгого пути с заходом на могилу поэта, мы оказались на набережной поселка напротив необычного двухэтажного здания, стоящего под углом к берегу. Стены его сложены из камней разной величины, впрочем, хорошо подогнанных друг к другу и довольно гладко обтесанных. Второй этаж значительно превышал первый. Его освещали высокие трехъярусные арочные окна. Переплеты рам были необычны. В верхней части помещались круги, испускавшие по шестнадцать лучей. Круги и лучи были явно списаны с символа солнца, каким представлял его Эхнатон, фараон Древнего Египта – первый правитель в истории утверждавший монотеистический культ, служителем которого потом стал Моисей…
– Обрати внимание, – сказал наставник, – здание обращено точно на восток и напоминает апсиду готического собора.
Федора Львовича в музее знали хорошо еще со времен Марии Степановны, вдовы Волошина, дожившей до середины семидесятых годов. Нас пустили в дом уже после закрытия. На первом этаже располагались комнаты, превращенные в экспозиционные залы. На стенах висели бесподобные акварели киммерийских пейзажей, столь узнаваемые и характерные для стиля поэта-художника. Полюбовавшись ими, поднялись в мастерскую. Она представляла собой вытянутую комнату с высоким потолком. Передняя часть тремя гранями выходила на восход солнца, как раз в сторону Орджоникидзе. В каждой грани было по высокому окну, одному из тех, что мы наблюдали снаружи. Четвертое, такое же высокое, что и первые три, смотрело на юг, на обрыв Кара-Дага, рисующий профиль поэта. Как будто гигантский исполин лежал на спине, привалившись затылком к вулкану и устремив взгляд в небесную даль. «И на скале, замкнувшей зыбь залива, Судьбой и ветрами изваян профиль мой», – было написано в 1918 году.
В глубине мастерской помещался бюст Таиах, как называл Волошин египетскую статую, копию которой привез из Берлина.
– Таиах была похожа на Маргариту Сабашникову, первую жену, что объясняет его привязанность к этой скульптуре, – поймав мой взгляд, стал рассказывать Федор Львович. – На самом деле, имя выдумано, истории оно неизвестно. В обратном чтении «Таиах» звучит, как «хайат», по-арабски означающее жизнь… но все это литературные игры. Поэт называл Таиах матерью Эхнатона…
У левой стены стоял внушительный стеллаж с большой коллекцией жидкостей и минералов.
– Он увлекался химией? – спросил я.
– Тебе скажут, что это компоненты для красок. Но Максимилиан Александрович не в той степени занимался живописью, чтобы растирать пигменты: вряд ли за жизнь он извел больше пары коробок акварели! Здесь, вдали от посторонних глаз, велись более существенные опыты: страсть к поиску философского камня еще никто не отменял! Представь себе, как в этой комнате, называемой Волошиным «каютой Таиах», проходили священные действия… ты, наверное, знаешь, что в египетской традиции корабль, плывущий по Нилу, имел сакральное значение, и потому такое название совсем неслучайно – антропософы собирались здесь на тайные мессы. В чем состоял ритуал можно только догадываться, но в посвященности этих людей сомневаться не приходится. Не было это простой игрой… это уж точно!
– Я читал, что в годы Гражданской войны у Волошина обитал Бела Кун, комиссар, руководивший красным террором.
– Это еще одна загадочная страница из жизни дома. Максимилиан Александрович всю Гражданскую прожил в Крыму. При власти белых помогал красным, при красных – спасал белых. Но самого поэта никто тронуть не посмел: авторитет его покровителей с избытком превышал полномочия и Врангеля, и большевиков. В древности бы сказали, что Максимилиан Волошин стал хранителем этих мест: профиль на горе – это тебе не рисунок на песке! Ну, и спасибо надо сказать Марии Степановне, сберегшей дом до наших дней…
– Что и говорить, много тайн хранит эта каюта, – согласился я.
Солнце клонилось к закату и уже спряталось за гору. Мы сидели в мастерской. Федор Львович замолчал, погрузившись в воспоминания. Быть может, он даже уснул, утомленный долгим путешествием. Я наблюдал, как сгущаются сумерки. В глубине светилась белизной голова Таиах. По лестнице, ведущей на антресоль, висели многочисленные портреты хозяина, написанные друзьями-постояльцами его ковчега. Среди них выделялись работы Диего Риверы и Петрова-Водкина. По фризу антресоли узкой дорожкой бежал коврик грубой работы с ромбическим орнаментом. «Вот и с ткацким искусством Волошин был знаком», – пронеслось у меня в голове.
И, вдруг, я увидел, скорее, даже почувствовал, как мастерская наполнилась людьми в древних одеждах. Они сидели за круглым столом, на котором стоял некий сосуд, напоминающий греческий потир. Стол отсвечивал белизной и, потому, чаша контрастно выделялась на нем. Лица собравшихся различить было трудно – все они слились в сплошную темную массу, сгрудившуюся вокруг центральной фигуры, очевидно главной в этом собрании. Этот человек сидел посередине, как раз напротив меня, и рукой указывал на сосуд. Другой рукой он держал кусок хлеба. Я догадался, что происходило некое таинство. Хлеб и вино, налитое в чашу, были не просто едой. Сидящий по центру говорил: «Вот хлеб – это Тело мое, вот чаша – в ней Кровь моя». Люди, окружавшие его, зашумели: как это обычная пища может представлять плоть и кровь живого человека? Это символ? Но мне было ясно: все ошибаются, не о символе здесь шла речь! Хлеб и вино реально превращались в новую субстанцию, новую материю высшего порядка. Зримая часть ее была мала и банальна, но внутренним взором я видел светящиеся нити, уходящие вдаль, в другое измерение, недоступное глазу. Это измерение было странным, таинственным миром, незримо существующим рядом. «Так и художник, – подумал я, – рисуя образы, создает новое пространство, связанное и переплетенное с неизвестностью».
Потом Сидящий в центре стола заговорил о предательстве. Якобы кто-то из присутствующих, должен уйти и сделать тайное явным. Один из бывших здесь, явно засуетился. Он, вероятно, хотел остаться вместе со всеми, неразличимым в толпе. Но луч света уже выхватил его из тьмы. В руке он держал мешок, который хотел скрыть. «Не я ли предам тебя?» – спросил он. «Ты это сказал!» – последовал ответ. «Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться».
Высветившийся субъект съежился: ему стало страшно. Перст судьбы пал на него. Он ничем не хуже других, быть может, даже усерднее служил Учителю, исполняя поручения, с которыми остальные не желали связываться. И вот теперь в награду за службу должен прослыть величайшим предателем! И что он получит в результате? Позорную смерть! Другие спрячутся, трясясь от страха. Один рискнет издалека проследовать за Учителем, да и то трижды отречется и… за это обретет всемирную славу. А ему, главному церемониймейстеру великой мистерии суждено вечное проклятие. Но иного пути нет: Писание не изменишь… Дрожащий от страха человек выпрямился, завернулся в холщевый плащ и вышел вон. Впрочем, отсутствие его никто не заметил: все были озабочены своим статусом в глазах Учителя…
«Тайная вечеря». 1990. 260x230 см. ГМЗ «Царицыно»
АНДРЕЙ МАДЕКИН
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСКУССТВО ИЛЬИ КУКУШКИНА»
Фрагменты из книги
Сила искусства
…После встречи в Дзинтари, я стал часто наведываться к Андрею Мадекину и мог наблюдать все стадии создания гобеленов. Художник долго искал себя. Сначала вдохновлялся Серебряным веком, поэтическим наследием Блока, потом увлекся авангардом 20-х годов, отдал дань современности, но полной удовлетворенности не было. И вот на повестку дня встала вечная библейская тема. Сколько мастеров на протяжении тысячелетий обращалось к ней, создавая величайшие произведения! Практически нет сюжетов, оставленных без внимания. Но каждое поколение возвращается к ним вновь и вновь.
Одним из первых опытов в этом направлении для Андрея стало «Чудо в Кане Галилейской». Сюжет отличается особой камерностью: Христос не спасает от беды, не излечивает болезнь, не кормит голодных. Казалось бы, единственная цель Иисуса – радость собравшихся на пир, превращение воды в вино для продолжения веселого праздника. Но пронзительный смысл поступка Спасителя откроется позже: последним чудом станет пресуществление вина уже в кровь!
Гобелен предполагался большим, и я по возможности помогал художнику. На полу мастерской из отдельных кусков ватмана мы склеили большой лист двухметровой ширины и почти трехметровой длины. Закатав бумагу в рулон, приложили ее к дальней свободной стене. С помощью столярного уровня определили горизонтальность верхнего края и прибили его гвоздиками. Потом осторожно раскатали бумагу и закрепили ее по бокам и внизу. Я отошел к двери: большой белый прямоугольник светился таинственно и призывно.
В последующие дни я иногда заходил понаблюдать дальнейший процесс. Маленький предварительный эскиз содержал в себе только идею без детальной проработки. Но Андрея, охваченного вдохновением, это не останавливало. Он жаждал начать картон, чтобы быстрее воплотить замысел. Вооружившись карандашом «Великан», вполне оправдывающим свое название, и несколькими скамейками, мой приятель приступил к рисунку композиции.
Картон исполнялся гуашью. На это ушло около двух недель. Еще месяц выдерживалась пауза, чтобы отдохнувшим глазом заметить недочеты и ошибки. Параллельно готовилась шерсть: пряжа с бобин разматывалась в пасмы, стиралась, красилась, сушилась и перематывалась в клубки. Это было длительным и нудным процессом. Особенно доставалось при покраске: кипящий ядовитый краситель парами выходил из-под крышки кастрюли, наполняя мастерскую удушливым запахом. На художника было жалко смотреть.
Наконец, дошли руки и до станка. Сооружен он был еще в институтские времена. Андрей рассказывал, что рядом ломали барак, и множество старых брусьев валялось по всей стройплощадке. По ночам юный маэстро совершал туда вылазки и в свете тусклых ламп уличного освещения собирал подходящий материал – основной каркас станка должен быть очень крепким, выдерживающим натяжение сотен нитей.
Мне было интересно познакомиться с технологией гобелена. Конструкция коврового станка очень проста и мало изменилась за последние тысячелетия, представляя собой большую раму, вертикально стоящую на двух ногах. На поперечные брусья наматывается «основа» – прочные хлопковые или льняные нити. Сквозь них продеваются цветные «утки́» – шерстяная пряжа, собственно и создающая изображение.
Я помогал сновать основу. Этот трудоемкий процесс требовал участия двух человек и занял целый день. Еще следовало завязать ремизные петли, заплести «косичку» и соткать «закрайку», после чего можно приступать к творчеству.
Исполнение гобеленов таит в себе немало трудностей. Во-первых, большая часть из них ткется с боковой стороны, чтобы вертикальные линии утков делали их зрительно более легкими и собранными. Вот бы живописцу предложили писать картину опрокинутой на бок! Во-вторых, ткач не видит композицию в целом, начиная с одного края и поднимаясь вверх миллиметр за миллиметром. Представьте, как сложно изображать чью-то голову, постепенно продвигаясь от кончика носа к затылку. И ничего в сотканных фрагментах уже изменить нельзя! В-третьих, как было сказано, гобелен ткется на станке. Сотканная часть по мере создания наматывается на вал или передвигается на обратную сторону рамы, скрываясь от глаз мастера. А если нужна симметричная композиция? Это легко сделать, когда видны обе части и правая, и левая, и их можно сравнивать. Но если одна уже закончена два месяца назад и давно перетянута, а другую надо сделать точно такой же? Не правда ли – это осложняет работу?
* * *
Разрабатывая композицию «Каны Галилейской», Андрей изучал иконографию сюжета, обращался к фреске из Ферапонтова монастыря и еще одной, очень плохо сохранившейся, из византийского Трабзона. Я помогал ему в поиске изобразительного материала. Но собранных репродукций явно не хватало. Стало ясно: необходимо ехать в Константинополь, где еще уцелело несколько комплексов византийских мозаик и фресок, из тех, что вознесли иконописный канон на небывалую высоту. Среди прочих там находится и блистательный вариант Каны…
Так мы оказались в Стамбуле, о чем уже шла речь в этих записках.
В один из первых дней поездки наша группа в полном составе отправилась в сердце Царьграда, на его главную площадь, к высившейся там уже в течение пятнадцати веков святой Софии. Купив билеты и пройдя кордон, зашли с западного входа. Один за другим минули два портала – и мы в центре храма. Взор поражает объем пространства, количество воздуха и света. Лучи, пробивающиеся сквозь верхние узкие окна, создают дымку, за которой парит невесомый шатер главного купола. Стены, облицованные мрамором, украшены витиеватой резьбой. И, конечно, мозаики… мозаики – главная цель нашего путешествия – высятся на головокружительной высоте.
Поднявшись по пандусу, вымощенному каменными плитами, оказываемся на втором этаже, называемым гинекеей, женской части храма. Изображение Богоматери в конхе главной апсиды приближается к нам так, что можно разглядеть отдельные кусочки смальты. Считается, что это первая постиконоборческая мозаика. Мария в синих одеяниях торжественно восседает на троне. Правую руку держит на плече Спасителя, своего сына, то ли нежно поглаживая, то ли благословляя. Лики их смотрят на нас. Остатки золота окружают композицию. Они тускло поблескивают, отражая лучи солнечного света. Рядом уцелели фрагменты образа Гавриила. Фигура его также на золотом фоне. Распахнутым жестом архангел демонстрирует сферу и скипетр. Лик его одухотворен и возвышен.
– Подумать только, как близки по эстетике гобелен и мозаика, – рассуждал Степа Петров, о котором я уже рассказывал прежде. – Конечно, гобелен хранит теплоту шерсти и мягкость волокна, а мозаики выкладывают из минералов или цветного стекла, материал их жесток и груб. Но все же и сходства очень много. Живопись красками или рисунок карандашом – это чистое изображение. Зритель видит только игру цветов или светотени. А изображения, созданные естественными материалами, например, камнем, керамикой, металлом, пряжей добавляют мистики: они привносят энергию своих стихий. Стежки в гобелене, как и кусочки смальты в мозаике не соединяются в сплошной живописный пласт, но сохраняют природную фактуру. И только на удалении границы между ними сливаются, цвета мягко перетекают друг в друга, создавая образ. Это порождает двойственность впечатления: вблизи зритель видит структуру ткани или россыпь камней, а издали возникает сюжетное изображение. Кстати, фреска также стоит в этом ряду: то видишь шершавую стену, то картину. Неуловимый переход из одного состояния в другое вызывает неопределенность восприятия, некую таинственную игру ощущений, неосознанные эмоции.
– Ты видишь в визуальном казусе догматический подтекст? – спросил я.
– Пожалуй, что так. Конечно, в данном случае это просто прием, но он может считаться символом связи горнего и дольнего, идеального и материального! Не случайно сакральное искусство отвергает станковую живопись, считая ее порождением апостасии, по-русски, оставления Бога.
– Гобелен от живописи существенно отличается способом исполнения, – заметил Андрей. – Гобелен как бы вырастает под руками ткача. Один раз сотканное уже не переделаешь, как не перепишешь судьбу человека. Картина, наоборот, рисуется целиком, кисть художника свободно скользит по всему холсту, постепенно проявляя и конкретизируя образы. В одном случае заключена идея последовательного развития, в другом – легкомысленность переменчивости. Характер материала отражается на образном строе произведения.
– Без сомнения, это так! Я думаю, что работа в материале одна из форм глубокой молитвы или, как теперь говорят, медитации. Погружаясь в стихию материи, художник волей-неволей соприкасается с ее сущностью, с ее душой, с ее энергией. Это не объяснить словами… это можно только почувствовать. Скрытая сила материи взывается к жизни руками мастера. Она просыпается и приходит в движение. Требуется большое умение, чтобы совладать с ее мощью… иначе она станет губительной, прежде всего, для самого автора.
– Ты говоришь о психологическом гипнозе образов?
– Нет, я говорю о факте, – голос Степана стал более строгим. – Афина – богиня ткачества, и ее сила присутствует в ткани, Гефест – бог кузнецов, строителей, и он живет в металле и огне. Поймите, лишь на поздних этапах люди стали персонифицировать силы стихий, придавать им антропоморфный облик. Но это – стадия вырождения, дошедшая до нас в игривых мифах. Когда-то люди могли непосредственно видеть потоки энергий и даже управлять ими.
– Подобно тому, как это делают шаманы? – спросил я.
– Скорее, как алхимики. Мы только догадываемся о существовании такой возможности. Чтобы говорить что-то более определенно нужно пройти путь посвящения, инициации. Но художник, работая с материалом, может нечаянно разбудить их. Кузнец, управляя огнем и металлом, совершает акт поклонения великой силе Гефеста, подобно тому, как ткач, сидя за станком, вызывает дух Афины. Основной способ медитации во всех религиях – остановка рационального сознания путем длительного повторения однообразных движений или молитв. Разве не похож на медитацию долгий монотонный труд ткача?
– Тут уже я буду возражать, – закачал головой Мадекин. – Гобелены часто ткутся несколькими мастерами одновременно, они болтают друг с другом, слушают радио… Где же здесь духовная сосредоточенность?
– Поверхностные разговоры проходят на другом уровне сознания. Может ведь человек одновременно разговаривать и идти по улице, не спотыкаясь и не сбиваясь с дороги? Так и здесь. Прорыв в трансцендентность возникает от простых монотонных движений. Случается ведь художнику наяву пережить сюжет своего произведения? Вспомни миф о Пигмалионе… А великие Мойры, прядущие нити судьбы человечества, – все это не случайные образы…
Об этом разговоре я вспомнил в Риме после встречи с «Леонардо да Винчи». «Наверное, что-то стоящее есть в его словах, – подумалось мне. – Ткачество и скульптура тому примеры. Придавая этим материалам нужную форму, душа художника вступает в резонанс с какими-то неизвестными, но явно существующими флюидами. Не стоит гадать без серьезных исследований об их природе, но кто возьмется однозначно отрицать их реальность?»
«Брак в Кане Галилейской». 1989. 260x200 см. ГМЗ «Царицыно»
«Брак в Кане Галилейской». 1989. 260x200 см. ГМЗ «Царицыно»

Голландский вояж
…В сентябре мы собрались в Голландию. Федор Львович трудился над инсталляциями и транспарантами, иллюстрирующими его умозаключения, а Мадекин торопился закончить новый гобелен, над которым работал последнее время. Назывался он «Вход в Иерусалим».
Я часто бывал у него. На станке одна за другой возникали фигуры бедуина, стражника, фарисея, женщины в темном платке. Потом очередь дошла до осла, и лишь последним был соткан Иисус, обращенный лицом ко всем остальным. В заключение, в правом нижнем углу художник выткал свою монограмму – две начальные буквы имени и фамилии, вложенные одна в другую…
Настал момент снимать гобелен со станка. Я помогал в этом Андрею. Отступив десять сантиметров от закрайки, с двух сторон стали резать основу. Будучи под натяжением, нити резко разлетались в стороны от оседавшего на пол ковра. Аккуратно, стараясь не шевелить лишний раз края, мы уложили гобелен на большой стол и приступили к завязыванию торчавшей основы. К верху пришили несколько лямок для длинной палки, припасенной специально на этот случай. Теперь можно было вешать работу на стену и… увидеть ее по-настоящему в первый раз.
На белом осле Человек в синих одеждах медленно ехал по дороге. За ним геометрическими фигурами мерцал древний город. Был полдень, но город казался темным, как будто его накрывала ночь – ночь неведения. Удивленные и растерянные люди встречали Едущего. Некоторые из них держали ветки с пушистыми почками. Трудно было сказать, чего они ожидали от Странника: разрешения мировых загадок, излечения больных, насыщения страждущих или просто занятных фокусов. Много уже разных колдунов, прорицателей и пророков прошло сквозь город, и толпы поклонников сопровождали их. Но проходило совсем мало времени, следы стирались, память изглаживалась, и новые проповедники заступали их место…
Рука Входящего поднялась в благословляющем жесте. Женщина в темном мафории, склонив голову, выставила вперед распустившиеся ветви. Старый фарисей, храня чистоту Закона, недоверчиво смотрел из-под насупленных бровей. Стражник в тунике с расшитым воротником ругался с бедуином, напиравшим сзади и толкавшим его в спину. Дальше люди сливались в единую гудящую массу. Лишь лицо Едущего было озарено светом. Оно сияло уверенностью и спокойствием. Уверенностью духовной силы и спокойствием знания предстоящего...
«Вход в Иерусалим». 1989. 260x200 см. ГМЗ «Царицыно»
«Вход в Иерусалим». 1989. 260x200 см. ГМЗ «Царицыно»

Над ухом прогремел голос Федора Львовича: оказывается, я сам заснул… Надо было подниматься и искать машину, чтобы ехать обратно в Орджо.
Уж и не знаю, что приснилось мне на самом деле? Может быть, сцена из Священного Писания, а может и некая мистерия, происходившая в этих стенах во времена Максимилиана Волошина. Пресуществление Святых Даров – знаменательная тема. Связь двух миров, дольнего и горнего, яви и нави, реального и трансцендентного – главная проблема сознания, а, следовательно, и искусства…. В конечном счете, вопрос стоит так: что есть подлинное бытие? Живем мы для людей, для того чтобы о нас говорили и уважали наш статус или живем для Бога, не обращая внимания на мирские соблазны? Шекспировский Гамлет мучился вопросом «быть или не быть?» Эпоха постмодернизма ставит вопрос иначе: «быть или казаться»?
Земная жизнь скоротечна, всего несколько десятков лет, а впереди – бесконечность. Какой смысл поддаваться призрачной суете перед лицом вечности? Пока мы здесь, суета заполоняет все как белый снег зимой. Но наступает весна, и где он, прошлогодний снег?
Бог есть высшая реальность. При встрече с Ним все сомнения разлетаются в прах. Информационные фантомы тают, как дым. Они способны гипнотизировать лишь краткое время. И только Бог бесконечен и неизменен, и Слава Его не меркнет во веки веков!
Андрей Мадекин. Путешествие в искусство Ильи Кукушкина. М.: 2014.
История искусства в том виде, как мы ее знаем, составлена самым причудливым образом. В одних случаях ценится идеальная красота, в других – следование правде, в третьих, как, например, в сюрреализме, – абсурдность, карикатурность или откровенная мерзость. Что же стало причиной такой путаницы?
Меняется время – меняется и искусство. А есть ли обратная зависимость: возможно ли с помощью искусства влиять на ход времен?
Эти и другие столь же странные вопросы в центре внимания героев повествования.

О творчестве А. Мадекина см. в журнале.
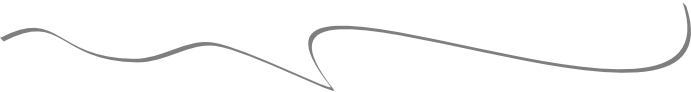
© 2012 Артобъектив
Web-design I. Dvorkina
All rights reserved
Web-
All rights reserved